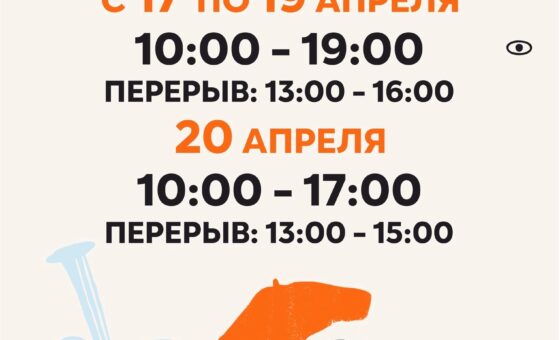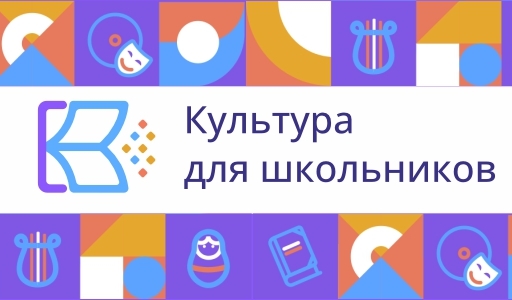Татьяна Джурова «…под названием „Молодость“». О спектаклях няганского ТЮЗа
 Ровно год назад произошло мое знакомство с театром Нягани. За это время многое переменилось. Появился художественный руководитель — им стал балетмейстер Николай Реутов. Из «детского музыкально-драматического» театр стал ТЮЗом. Труппа, и без того не старая, еще больше помолодела — в ее состав вошли выпускники драматического факультета петербургского Университета культуры и искусств. Директору Анастасии Постниковой, заманившей на работу восемь молодых актеров и обеспечившей их жильем, удалось невозможное. Ведь выпускники петербургских вузов редко покидают город, а выпускники драматического факультета СПбГУКИ вообще редко работают по специальности: если учесть, что драмфак РГИСИ что ни год выпускает 2–3 курса, то шанс работать в театре сводится к нулю, слишком высока конкуренция.
Ровно год назад произошло мое знакомство с театром Нягани. За это время многое переменилось. Появился художественный руководитель — им стал балетмейстер Николай Реутов. Из «детского музыкально-драматического» театр стал ТЮЗом. Труппа, и без того не старая, еще больше помолодела — в ее состав вошли выпускники драматического факультета петербургского Университета культуры и искусств. Директору Анастасии Постниковой, заманившей на работу восемь молодых актеров и обеспечившей их жильем, удалось невозможное. Ведь выпускники петербургских вузов редко покидают город, а выпускники драматического факультета СПбГУКИ вообще редко работают по специальности: если учесть, что драмфак РГИСИ что ни год выпускает 2–3 курса, то шанс работать в театре сводится к нулю, слишком высока конкуренция.
И вот уже полгода они работают в Нягани, городе, о котором раньше едва ли даже слышали, в 1900 километрах от Петербурга. Работы много — и вводы, и премьеры. И даже если у кого-то из актеров не «срастется» с Няганью, это все равно хороший опыт.
Премьеры в Нягани — не редкость. Няганский ТЮЗ — единственный театр в городе — регулярно пополняет репертуар, предпочитая приглашать на постановки молодых режиссеров, выпускников мастерских Москвы и Петербурга. Только в текущем сезоне здесь выпустили свои спектакли петербуржцы: Роман Каганович — «Морфий», это его вторая работа в Нягани; фильштинец Игорь Лебедев — «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони; женовачовец Артем Устинов — поэтическую сказку Екатерины Гороховской «Научи меня летать». На выпуске — «Щелкунчик» Жени Беркович (Гофман обещает быть совсем не конфетно-сусальным и отнюдь не дешевым), прежде чем сыграть в Нягани, его обкатают на губернаторской елке в Ханты-Мансийске.
Приглашение Беркович, Устинова и Лебедева – дело рук нового худрука, Николая Реутова. И дело не только в том, что молодые режиссеры «по карману» небольшому театру, по-прежнему ютящемуся в здании бывшей начальной школы. Быть «в активном поиске» режиссеров для тюза — норма. У молодого театра должен быть режиссер, мыслящий современно.
Этот принцип «выстреливает» через раз. Возможно, для театра густонаселенные «Кьоджинские перепалки» были способом привлечь к работе «новобранцев». Видно, что брутальная комедийная составляющая сюжета о ссоре и тяжбе двух воинственных рыбацких семейств деревеньки Кьоджа не слишком вдохновила дебютанта Игоря Лебедева. И что была попытка поставить спектакль, скорее, о превратностях любви, соединяющей и разделяющей две молодые пары из враждующих семей. Любви оказывается не чужд даже помощник судьи Исидоро (Андрей Ушаков), устраивающий судьбу и брак юной Кекки (Екатерина Ушакова). Наметки этой линии потаенной любви немолодого уже человека к ребячливой рыбачке сохранились пунктирно.
Но что-то не сложилось. Возможно, слишком велико было сопротивление материала. Спектакль делали долго, текст изрядно сократили и попытались рассказать своими словами, а молодые актеры работали этюдно. На стадии выпуска в него сделали свой вклад мастера — Вениамин Фильштинский и Николай Реутов. Наверное, спектакль внешне оформился. Но следов присутствия какого-то замысла, игры с той или иной эстетикой в нем нет. Поэтическая сказка Екатерины Гороховской «Научи меня летать» уже имеет сценическую историю. В Петербурге, в театре «За Черной речкой» ее поставила сама автор. В репертуаре няганского театра уже есть рукотворный бэби-опус Виктории Евтюхиной — «Про кота-воркота». «Научи меня летать» — как следующий шаг в знакомстве с «азбукой театра», постижении его природы, урок ассоциативного мышления. В тексте сказки Гороховской совсем немного слов, это своего рода сценарий, в котором звучат отголоски «Маленького принца», «Синей птицы», «Снежной королевы», а также мифа об Орфее и Эвридике. И эти переклички создают необходимый ассоциативный фундамент тем: мечты, жертвы, ответственности, победы над смертью.
Принц живет на уединенном острове, где у него нет друзей, но вот на остров прилетает прекрасная Белая птица. Принц обещает птице, что когда он сделает себе крылья, они смогут подружиться и отправиться в полет. В условленный день Принц, увлеченный изготовлением крыльев, забывает о встрече с Птицей. И та погибает, разбившись о камни. Но Принц не знает об этом и отправляется на ее поиски. Отдельные образы — замка, стражей-исполинов, черепахи, птицы и т. д. — зашифрованные знаки, которые зрителям придется так или иначе истолковать, применить к собственному опыту. Художник Наталия Бурнос — полноценный соавтор спектакля. Его визуальные образы складываются из отдельных предметов, как из деталей конструктора. Актеры работают и в живом, и в кукольном планах. Но кукла в спектакле всего одна — самого Принца. В живом плане его вдумчиво играет молодой артист Рамиль Ахмеров — как взросление и самопознание. Легко, не раскрашивая, в одно касание создает свою Птицу Дарья Фамильцева.
Образы очень простые — как в домашнем театре. Материалы природные: дерево, песок. Из их комбинаций возникают, складываются на глазах разные объекты — замок, скалы, море, пропасти, цветы, жерла вулканов.
Известно, что недосказанность — своего рода инструмент, стимулирующий фантазию, сотворчество. Недосказанностей в тексте много, и проблема не в них, а в том, что механизм архетипической модели сказки-испытания, сказки-становления не всегда работает. В любой сказке-путешествии внешние преграды, которые проходит герой, работают на его внутренний опыт. Происходит становление героя, он познает себя через испытания и поэтому оказывается способен на решающий поступок-жертву.
Пока Принц идет через пропасти и вулканическую лаву, внизу, вмонтированные в стол, на котором разворачивается большая часть действия, движутся стрелки, крутятся шестеренки часового механизма — емкий и зловещий образ неумолимого времени. Но испытания, которые проходит Принц, в основном декоративной природы — крокодилы, пылающее жерло вулкана… К тому же театр останавливается в нерешительности на том самом месте, где Принца не пускает в свое королевство некая Прекрасная женщина, забравшая Птицу (мы понимаем, конечно, что это смерть). Но тогда где в финале летают соединившиеся герои — по ту или по эту сторону ее «врат»? Если по ту, значит, случилась «победа смерти», которую театр и режиссура Устинова не решаются озвучить. Если по эту — то механизм волшебной сказки дает сбой. Что-то же должен был сделать Принц, чтобы получить любимую обратно? Сказка об этом молчит. Спектакль тоже не дает ответа. А встревоженные родительницы обвиняют спектакль в пропаганде подросткового суицида.
В 2011 году няганский театр поставил «5.25» Данилы Привалова, в котором герои-суицидники тоже соединялись в смерти. Возрастной ценз спектакля был, правда, иной.
За это время наш мир изменился до неузнаваемости. И градус общественной тревоги и нетерпимости зашкаливает. Не владея инструментами ее регулирования, общество и отдельные его представители в виде зрителей направляют агрессию на театр… Интересно, приходило ли в голову какому-нибудь родителю рубежа XIX— XX веков обвинять в пропаганде подросткового суицида сказочников-символистов от Уайльда до Метерлинка? Вот уж у кого процветала апология смерти. А Андерсен, безнаказанно идущий на советской сцене в промышленных масштабах? Злодей из злодеев. То девочка со спичками у него замерзает, то оловянный солдатик или русалочка гибнут во имя любви. Безобразие!
Няганский театр — очень домашний по своей природе. О зрителе с его тревогами и заботами здесь всячески пекутся и постоянно придумывают разные схемы обратной связи. Для того чтобы оба могли развиваться сообща — и театр, и зритель. Так, например, в начале 2017 года здесь планируют драматургическую лабораторию. Дети будут писать пьесы под руководством Марии Зелинской.
«Морфий» по повести М. Булгакова — вторая работа Романа Кагановича в Нягани — поставлен на «антинаркотический» грант. Но в агитку не превратился. Он воздействует, и воздействует довольно сильно — иррациональным образом. В сущности, это монодрама, развертывание картины замкнутого на самом себе, болезненного сознания и распада этого сознания на отдельные образы, краски, звуки.
Спектакль очень темный: темнота скрадывает и фрагментирует тела, выделяет белизну рук, перебирающих шприцы и медикаменты на столе, зажигает языком пламени запрокинутую в любовном экстазе рыжую голову Анны, порождает проплывающую, как в невесомости, «безголовую» в клубах дыма женскую фигуру. Темнота пульсирует звуками электронной музыки. Разрывает барабанные перепонки ультразвуком. В ней мучительно громко звучит усиленный микрофоном смех фельдшера, рассказывающего про медсестру-морфинистку, или тупой деревянный звук операционной пилы, перепиливающей кость.
Раскачивающаяся над операционным столом лампа, как на допросе, высвечивает лица персонажей, помогает зафиксироваться, сосредоточиться на отдельной детали. Обозначение, выделение светом — проверенный инструмент экспрессионистской эстетики, которой наследует этот непростой спектакль.
У доктора Полякова, которого в очередь играют опытный Андрей Ушаков и дебютант Роман Мамонтов, в спектакле есть собеседник, доктор Бомгард. У Булгакова он, прямиком вышедший из «Записок юного врача», — антипод Полякова. Но оба — и интроверт, неврастеник Поляков, и гармоничный Бомгард — ипостаси самого автора, вариации одной и той же судьбы провинциального врача, заброшенного в революционные годы в сельское захолустье. Один будто бы избавлен от внутренних противоречий, и схватка его исключительно с внешними обстоятельствами. Другой — настоящий клубок противоречий: гибнет, идет на дно практически без всякого сопротивления. «Диагностическая» повесть «Морфий», впервые напечатанная, кстати, в медицинском журнале, подтверждает, что ее автор действительно стоял на краю. Сама форма дневника, обрывки записей (у повести сильное визуальное, графическое воздействие на психику) — это, действительно, мучительная клиническая картина. Разодранный дневник — как разодранное сознание.
В спектакле Бомгард – солидный, самоуверенный, сжимает виски от изнуряющей мигрени (как мы помним, мигрени мучили и самого Булгакова, и Понтия Пилата), а за его спиной маячат два силуэта, две ипостаси одной и той же персоны. В дальнейшем Бомгард перемещается в зал, откуда подает реплики Полякову. И голос его звучит бесстрастно и весомо, словно голос судьи или прокурора. То ли реальный собеседник, то ли голос выжившего Полякова, обращающийся к нему самому из будущего.
Все прочие персонажи, включая персонал и пациентов, — скорее, фантомы сознания доктора. Даже рыжая медсестра Анна (Елена Киреева), невольная виновница пагубной страсти Полякова, сразу замершая обреченно, в чьем леденящем покое предугадывается неминуемый финал.
Поляковы у Романа Мамонтова и Андрея Ушакова очень разные. Роман работает в экспрессионистской «эстетике крика». Это сознание сразу обнаженное, спазматическое, оголенное до кровавых кусков, которые, кажется, проглядывают в будто проделанных скальпелем прорезях кительной ткани костюма (художник Елисей Шепелев). Умелому Андрею Ушакову больше удается распределиться во времени спектакля, работать переходами, эмоциональными переключениями. Его доктор — с прошлым, с опытом страдания — более владеет собой. И иллюзия того, что он хозяин своих поступков, становится причиной гибели — своей и чужой.
Спектакль Кагановича воздействует, погружая в кошмар, но при этом избегая прямой пропагандистской риторики. Он не грозит пальчиком подрастающему поколению, а внушает страх… и сострадание.
В тексте Андриана Лебедева куски из «Морфия» смонтированы с «Записками юного врача». Но и сценам из докторской практики придан фантомный вид. Девочка Лидка, которой доктор должен сделать трахеотомию, соединена с ее матерью, верещит: «Несогласная я!» и молит: «Капель, доктор, дайте капель». Юркая бабочка, «выпившая» за один вечер банку белладонны, плотоядно облизывает губы; актриса Алла Кохан доводит суетливость образа до такого градуса, что перед нами будто уже не человек — какая-то нечисть болотная. Фантомом, кажимостью оказывается и последняя «успешная» операция Платонова. Девушка с попавшей в мялку ногой умирает на операционном столе. И только после этого доктор кончает с собой. Вводя в спектакль этот эпизод, режиссер балансирует на грани прямого осуждения, но не переходит ее.
В финале на сцену вновь выходит Бомгард, чтобы рассказать обо всем, что потерял и чем пренебрег Поляков: электрических фонарях, «чарующей взор вывеске с сапогами», «изображении молодого человека со свиными и наглыми глазами» и чудесах медицинской техники. Но этот голос сытого обывательского сознания вызывает отвращение. А того — слабого и погибшего — жаль.
Спектакли Устинова и Кагановича — удачи театра, который доверяет зрителям, говорит с ними о непростом и болезненном, не пережевывая это до состояния манной каши, а на требующем внутренней работы языке современной режиссуры.